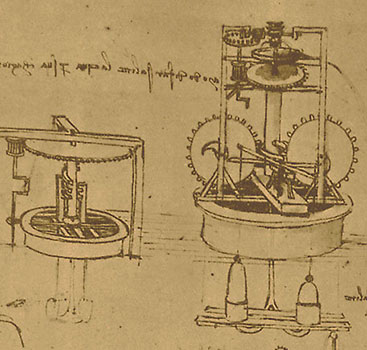Алексей Залесов,
Адвокат, патентный поверенный, управляющий партнер Адвокатского бюро города Москвы «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры», кандидат юридических наук.
Развитие правовых механизмов защиты любых частных прав, включая интеллектуальные права, является частью государственной правовой политики. Усиление защиты частных прав может вступать в противоречие с публичными интересами, например, в случае чрезмерной монополизации определенных отраслей за счет концентрации «священной» частной собственности. Поэтому любая государственная политика должна стремиться к обеспечению разумного баланса и равновесия в обществе. Если действующее в стране право обеспечивает устойчивое развитие ее экономики и иных социальных сфер, то оно отвечает национальным интересам.
В настоящее время в России продолжается деятельность по научному обоснованию улучшения правовой защиты объектов интеллектуальной собственности (далее также — ИС). Например, в 2022 году была разработана и опубликована Концепция совершенствования законодательства о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических лиц товаров, работ, услуг и предприятий. Данный документ содержит тезис о том, что компенсация носит правовосстановительный характер. В частности, авторы концепции предлагают сохранить действующий под- ход о минимальной планке для фиксированной компенсации, но при этом рекомендуют предусмотреть определенный прогрессивный коэффициент для расчетной компенсации. Таким образом, на практике законодателю предлагается ввести не только правовосстановительный, но и штрафной характер компенсации. Поэтому, конечно, концептуально нам предлагают ужесточить ответственность за нарушение прав ИС.
В рамках данной статьи хотелось бы не рассматривать детали того, как именно нужно обеспечивать защиту прав владельца ИС, а обсудить в целом тренд на усиление правовых позиций правообладателей. Верно ли само по себе данное направление развития в современных реалиях? Возможно, впору проводить дискуссии о том, какие меры нужно принимать для защиты интересов общества от деятельности патентообладателей?
Особенностью исключительных прав является их монопольный характер, который ограничивает конкуренцию. В случае патентных прав это ведет к высокой стоимости запатентованной продукции для потребителя в период действия патентной монополии. Считается, что сверхприбыль патентообладателя-монополиста вкладывается им в новые проекты, то есть такая сверхприбыль обеспечивает технический прогресс. Но отвечает ли отечественным национальным интересам развитие технологий иностранных патентообладателей за счет монополии в России, то есть за счет сверхдохода, получаемого от российских потребителей? При ответе стоит учесть, что иностранцы владеют патентными монополиями в России в большинстве критических областей, начиная с фармацевтики и здравоохранения, где поддерживают монопольно высокую цену лекарств, законно устраняя российского конкурента с рынка. Очевидно, что в зависимости от проводимой государством политики (например, привлечение иностранцев-патентовладельцев или, наоборот, содействие российским производителям для целей импортозамещения) ответы на вопрос о необходимости усиления защиты патентной монополии (читай — иностранцев) в России будут различными.
Принятие мер в сфере регулирования отношений по поводу интеллектуальной собственности требует понимания их влияния на российскую экономику и общество. Повышению эффективности развития правовых институтов способствует анализ возможных последствий введения новшеств, поэтому желательным является проведение профильных исследований при принятии решения об изменении законодательства.
Пропагандируемый более 25 лет в нашей стране лозунг о необходимости всемерного усиления правовой защиты ИС как основы ускоренного инновационного развития российской экономики уже давно сделался клише в головах специалистов. При этом какая-либо сущностная дискуссия о том, какой вид защиты монопольного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации способствует развитию российского общества и национальной экономики, а какой, наоборот, вредит этому, в профессиональном сообществе почти не происходила.
Наблюдаемое в течение 1991- 2022 годов полное отсутствие у регуляторов понимания того, что чрезмерная монополизация российского рынка через исключительные права, наиболее значимые из которых принадлежат иностранным лицам, потенциально опасна и вредна российскому обществу, уже привело к общественно вредным последствиям при резком изменении межгосударственных отношений со странами Запада. Уход многих западных компаний, владеющих патентными монополиями в основных отраслях российской экономики, лишил национальную экономику критически важной техники в машиностроении, авиации, химии и нефтехимии, электронике и многих других отраслях. Замещение выбывшей продукции отечественными производителями происходит очень и очень медленно, так как россияне ранее не допускались на свой собственный национальный рынок, в том числе, за счет патентов иностранцев, поэтому они не имеют соответствующих производственных мощностей.
В виде одного из немногочисленных исключений, когда имела место профессиональная дискуссия на тему целесообразности определенных мер по защите интеллектуальных прав, можно вспомнить состоявшееся обсуждение того, какой принцип исчерпания исключительных прав следует указывать в российском законе: национальный, региональный (в рамках ЕАЭС) или мировой (международный), проходившее на различных профессиональных площадках в 2013-2017 годах. В основе данного обсуждения лежал вопрос: выгоден ли российской экономике и обществу параллельный импорт? Но очень полезное обсуждение этой темы так и не закончилось выработкой обоснованного государственного подхода, поэтому изменения в регулировании параллельного импорта осуществлялись по сути не законодательно, а судебной практикой, начиная с постановления президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 3 февраля 2009 г. No 10458/08, указавшего на недопустимость применения положений статьи 14.10 Кодекса об административных правонарушениях к параллельному импорту, и далее путем принятия многочисленных, иногда противоречащих друг другу, судебных актов о гражданско-правовой ответственности параллельных импортеров перед правообладателями.
Сфера параллельного импорта стала резко нормативно меняться законодателем лишь в качестве непосредственной реакции на введенные против России странами Запада санкции, запрещающие ввоз в Россию широкого спектра товаров, в том числе критически важных для нашей экономики.
Так, согласно положениям федерального закона ФЗ No 46-ФЗ от 8 марта 2022 года Правительство РФ может утвердить перечень товаров, в отношении которых не применяются отдельные положения Гражданского кодекса о защите ИС, а согласно принятому в развитие этого подхода федеральному закону ФЗ No 213-ФЗ от 28 июня 2022 года не является нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров) по данному перечню. Далее были изданы соответствующие постановление Правительства РФ от 29 марта 2022 года No 506 и детализирующий его приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19.04.2022 No 1532 (опубликован 06.05.2022) «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия». То есть был разрешен параллельный импорт товаров, внесенных в соответствующий перечень. А ведь уже где-то в 2017 году можно было точно спрогнозировать целесообразность либерализации параллельного импорта в рамках проводимой дискуссии и сделать ее более эффективной в плане проработки, например, защиты от наводнивших страну подделок (когда под видом параллельного импорта ввозится товар, который никогда не выпускался с согласия правообладателя, а представляет собой контрафактный товар в стране происхождения).
В случае с параллельным импортом наглядно видно, что законные интересы правообладателей по монопольному контролю за поставляемым в Россию товаром вступили в явное противоречие с национальными интересами. Не является ли это поводом хотя бы задуматься о соотношении механизмов защиты исключительных интеллектуальных прав и национальных интересов России?
Правовая реальность, сложившаяся к настоящему времени ввиду постоянного расширения санкционного давления на Россию со стороны недружественных стран в период 2022- 2025 годов, характеризуется почти полным фактическим запретом на получение и использование прав интеллектуальной собственности для российских компаний и граждан в странах Европейского Союза (далее также — ЕС) и большинстве иных стран Запада. Напомним, что Российская Федерация категорически не признает правомерность введенных против нее санкций и считает их односторонними недружественными действиями, принятыми соответствующими государствами или государственными объединениями.
В июне 2024 года Советом Европейского Союза был принят и введен в действие так называемый 14-й пакет санкций против России1, в котором введен полный запрет на прием новых заявок на регистрацию в странах ЕС товарных знаков, патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, наименований мест происхождения товаров и географических указаний. Императивный запрет введен в отношении заявок, подаваемых российскими физическими или юридическими лицами, в том числе при совместной подаче заявки российским лицом с одним или несколькими лицами, не относящимся к юрисдикции России. Также в ЕС введен запрет на рассмотрение ходатайств, что означает невозможность поддержания ранее полученных исключительных прав, требующих уплаты пошлины за их действие.
Примечательны декларируемые основания введения этих мер — якобы систематическое нарушение прав интеллектуальной собственности европейских компаний и граждан ЕС в России, при этом не приведено ни единого факта, подтверждающего нарушения прав европейцев в России. Данные действия ЕС являются прямым и демонстративным нарушением положений Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 года и Соглашения ТРИПС Всемирной Торговой организации, участниками которой являются и Россия, и все страны ЕС. В частности, статья 2 Парижской конвенции и статья 3 Соглашения ТРИПС2 вводят национальный режим для лиц из иных стран-участниц, то есть предписывают, что права интеллектуальной собственности должны охраняться так же, как и права граждан данной страны.
Основополагающим принципом международного публичного права является принцип взаимности. Но до настоящего времени со стороны Правительства Российской Федерации никаких ответных мер воздействия в сфере интеллектуальной собственности в отношении стран ЕС не последовало.
В качестве официальной реакции можно отметить лишь то, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выпустила разъяснения по данным ограничительным мерам3, которые помимо констатации факта нарушения ими норм международного права со стороны Европейского Союза, содержали рекомендации российским гражданам и компаниям временно отказаться от подачи заявок в ведомства по ИС стран ЕС напрямую. Для подачи заявок было предложено использовать международные системы регистрации Всемирной организации интеллектуальной собственности («РСТ» — для изобретений, «Мадрид» — для товарных знаков и знаков обслуживания, «Гаага» — для промышленных образцов, «Лиссабон» — для географических указаний и наименований мест происхождения товаров). Заявку на регистрацию объектов ИС в рамках международных систем ВОИС было предложено подавать через Роспатент как головное ведомство по взаимодействию с ВОИС. Такой порядок позволит, по мнению Роспатента, закрепить приоритет по заявке, зафиксировать первенство подачи.
Но закрепление приоритета — это временная мера. К сожалению, получить действующий патент в странах ЕС путем выполнения данных рекомендаций невозможно. Максимальный срок международной фазы патентной заявки РСТ составляет 31 месяц с даты приоритета, в течение которых нужно было перейти на региональную фазу, то есть подать заявку на выдачу европейского патента через процедуру Договора о патентной кооперации (РСТ). Роспатент правильно полагал, что подача заявки в Европейское патентное ведомство (далее — ЕПВ) тогда была еще возможной, так как ограничения ЕС не распространялись, так как ЕПВ — это независимая от органов Европейского Союза международная организация, учрежденная в рамках Европейской патентной конвенции. Но даже выполнив подачу заявки в ЕПВ, нет никакой реальной возможности получить и поддерживать исключительное патентное право в стране ЕС в обход санкционного запрета, так как выданный ЕПВ европейский патент, все равно требует валидации и поддержания на национальном уровне, что было запрещено 14 пакетом санкций.
Примечательно, что чуть позднее отпала даже данная призрачная возможность поддержания прав российских заявителей по европейской заявке, так как в декабре 2024 года Европейское патентное ведомство прямо распространило применение 14-го пакета санкций Евросоюза к заявкам на европейские патенты. Согласно официальным разъяснениям ЕПВ после 25 июня российские заявки, как поданные напрямую, так и международные заявки РСТ, которые переходят на региональную фазу в ЕПВ, будут считаться отозванными в отношении стран Евросоюза, входящих в Европейскую патентную конвенцию. Далее заявку могут рассматривать только в отношении стран-участниц, не входящих в Евросоюз, а именно: Албания, Великобритания, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Турция, Черногория и Швейцария.
Поэтому на сегодня в странах Европейского Союза россияне ни коим образом не могут запатентовать свои разработки, а также не могут поддерживать ранее полученные патенты, которые прекращают свое действие ввиду невозможности уплатить годовую патентную пошлину, ввиду чего все российские изобретения в Европе переходят в общественное достояние. То есть в настоящее время пользоваться любыми техническими решениями, которые заявлены на патентование россиянами, в Европе можно «безвозмездно, то есть даром». Ничем иным, как принудительным изъятием российской интеллектуальной собственности в Европейском Союзе это назвать нельзя.
Ситуация в других западных странах, которые не ввели санкции в сфере интеллектуальной собственности, хотя и не столь демонстративно антироссийская, но в реальности не многим отличается. В США и Японии, например, у россиян до сих пор есть возможность получить и поддерживать правовую охрану объекту ИС (в том числе уплачивать пошлину), но действенной возможности защитить интеллектуальное право в случае нарушения в суде не имеется.
Очевидно, что согласно основному принципу взаимности международного права действующая в России сейчас эффективная система защиты прав ИС иностранцев из ЕС вызывает вопросы, а иногда и возмущение российских хозяйствующих субъектов. Многие отечественные производители отмечают, что очевидная дискриминация прав ИС россиян в Европе делает несправедливым их защиту в России. При этом в самом ЕС постоянно звучат абсолютно ложные утверждения о ранее допускавшихся нарушениях прав ИС европейцев в нашей стране).
Как указано выше, Правительство России ответных мер аналогичного содержания в отношении стран ЕС не вводило, хотя принцип взаимности, являющийся основополагающим принципом международного права, позволяет применить ответные ограничительные санкции аналогичного содержания. Более того, зеркальные ответные меры были бы гораздо более болезненными для стран ЕС, так как они традиционно подают больше патентных заявок в России, чем россияне в Евросоюзе, то есть фактические потери европейцев были бы существенно выше.
Относительно недавно в определении Экономической коллегии по делу No А56-2577/2023 от 23.01.2025 года Верховный суд Российской Федерации достаточно подробно высказался о влиянии санкционного режима на оборот прав интеллектуальной собственности (ИС) в нашей стране, рассмотрев спор российской компании и фирмы из недружественной юрисдикции по поводу нарушения положений лицензионного договора. Позиция судей ВС по данному делу сводится к тому, что суды в дальнейшем должны, в том числе по своей инициативе, проверять вопрос добросовестности поведения лиц, в частности, из недружественных юрисдикций и аффилированных с ними лиц при реализации сделок с ИС. В случае установления недобросовестности поведения, суды реализуют права, установленные в статье 10 ГК РФ, в том числе путем отказа в иске. С таким подходом трудно не согласиться — он законен и весьма актуален и не касается напрямую санкционного режима. Единственная связь таких действий суда в делах с участием иностранцев из недружественных стран — не допустить обхода ограничений, установленных Правительством РФ на порядок платежей по сделкам, а не учет того, что интеллектуальные права россиян систематически нарушаются за рубежом, в частности, в Евросоюзе.
На вопрос о возможности ответных ограничительных действий судьи Верховного суда ответили отрицательно, комментируя позицию российской стороны спора о том, что права ИС лица из недружественной юрисдикции не должны защищаться в России ввиду того, что в стране его регистрации нарушаются права россиян. На данный довод коллегия Верховного суда формально указала, что ответные ограничительные меры — реторсии, согласно статье 1194 Гражданского кодекса Правительством Российской Федерации не введены, поэтому интеллектуальные права иностранцев из недружественных юрисдикций подлежат защите в России в полном объеме. Конечно, суд не принимает, а лишь применяет действующий закон.
Таким образом, с учетом позиции Верховного суда можно констатировать, что до принятия Правительством ответных мер, систематическое нарушение прав россиян в Евросоюзе ни в коей мере не может считаться основанием для каких- либо ограничений для защиты интеллектуальных прав субъектов из ЕС в России в конкретном деле. Интеллектуальные права лиц из недружественных юрисдикций защищались и будут защищаться в нашей стране также как и права россиян. Подход равнозначной защиты частных интеллектуальных прав, не зависящий от принадлежности к «недружественному флагу», можно считать формально правильным, а потери россиянами своих интеллектуальных прав за рубежом считать «сопутствующими потерями».
Более странным можно считать то, что в столь трудных экономических условиях неожиданно резко возросла активность федеральных органов исполнительной власти в направлении ужесточения механизмов ответственности за нарушение исключительных интеллектуальных и прежде всего патентных прав. Как указывалось выше, абсолютное большинство патентообладателей, защищающих свои монопольные права, в том числе в важнейших отраслях экономики таких как фармацевтика, биотехнология, агрохимия и электронная техника, принадлежат фирмам из тех самых недружественных юрисдикций.
Удивительно, но то, что целью является усиленная защита именно интеллектуальных прав иностранцев против интересов россиян, в открытую декларируется представителями органов власти.
Например, на это прямо направлены инициативы Федеральной антимонопольной службы (далее — ФАС) по ускоренному внесудебному рассмотрению споров о нарушении патентных прав в рамках дел о недобросовестной конкуренции, ответственность за которую предусмотрена статьей 14.5 Закона о защите конкуренции. Большинство дел рассматриваются в особенно чувствительной для общества области фармацевтики. Заявления о якобы совершении акта недобросовестной конкуренции посредством неправомерного использования запатентованного изобретения в продаваемом воспроизведенном лекарственном средстве (дженерике) рассматриваются Комиссией ФАС в кратчайшие сроки, даже без проведения патентно-технической экспертизы, с выдачей предписания о прекращении введения в гражданский оборот лекарственных препаратов отечественного производства из списка жизненно необходимых и важнейших, утвержденным Правительством. В вынесенных в период сентябрь — ноябрь 2025 года пяти решениях ФАС прямо нацелена на защиту интересов фармацевтических компаний-патентообладателей из недружественных юрисдикций (так называемая «Биг Фарма»), в ущерб политике импортозамещения в фармацевтической отрасли. Законность вынесенных ФАС решений в настоящее время проверяется арбитражными судами по одному из дел в отношении препарата «Акситиниб» (МНН). Уже вынесено решение суда первой инстанции о незаконности решения и предписания ФАС4, а другие дела находятся еще на рассмотрении в Арбитражном суде города Москвы5. Но в любом случае странным представляется сама по себе активизация деятельности органов ФАС в вынесении решений против российских фармпроизводителей в пользу иностранных владельцев патентной монополии в существующем в настоящее время антироссийском санкционном контексте.
Специалисты в патентном деле хорошо знают, что многие страны проводят очень сдержанную, даже ограничительную политику в отношении предоставления патентных монополий иностранным компаниям и их последующей защите. Известно, что получить патент на изобретение в США иностранной компании гораздо сложнее, чем американской. Разумеется, это регулируется правоприменительной традицией, а не правом, согласно которому иностранцы пользуются национальным режимом при патентовании. Просто эксперты Патентного ведомства США, разумеется, без какого-либо указания в законе об этом, заметно строже относятся к иностранным заявкам, чем к американским. В Китае, например, существует программа поддержки национального патентования, что уже привело к тому, что в критических и прорывных технологиях в Китае национальные компании имеют существенно большее количество патентов, чем иностранные. Подобного национально ориентированного подхода, к сожалению, не существовало и до сих пор существует в России, где по-прежнему ключевые патентные высоты в важнейших областях техники занимают иностранные патентообладатели, прежде всего, из недружественных юрисдикций.
С учетом изложенного, полагаем, что утверждения о необходимости усиления защиты патентных прав в нашей стране равнозначны действиям по дальнейшему формированию зависимости отечественной экономики от иностранных хозяйствующих субъектов, причем без каких-либо реальных инвестиций с их стороны. Необходима разумная система «сдержек и противовесов» и поддержки отечественных игроков.
В качестве примера того, как страны успешно противостояли попыткам более активных международных игроков в сфере интеллектуальной собственности (США, Япония, Швейцария, ряд стран ЕвроСоюза) навязать повышенные обязательства по защите авторских прав, можно привести фактический отказ большинства государств от подписания в уже далеком 2011 году Международного соглашения по борьбе с контрафактной продукцией (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). Данное многостороннее торговое соглашение было направлено на ужесточение защиты авторских прав в сети Интернет и на рынке товаров, основанных на информационных технологиях. Стоит подчеркнуть, что переговоры и разработка Соглашения АСТА проводились за закрытыми дверями без участия представителей многих стран и даже профильных международных организаций, таких как ЮНЕСКО и Всемирная организация интеллектуальной собственности. В рамках нового соглашения планировалось создать межгосударствнное объединение, обладающее полномочиями для пресечения нарушения авторских прав и иерархическую систему контроля за принимаемыми мерами защиты ИС в странах-участницах. Предлагалось резко ужесточить административные меры со стороны полиции и таможни, в том числе, позволить должностным лицам таможни досматривать личные ноутбуки и мобильные телефоны при пересечении таможенной границы на предмет хранения в них файлов, связанных с нарушением закона об авторском праве. Также предполагалось введение повышенных требований защиты авторских прав в Интернете, включая обязанность провайдеров по частичному разглашению информации, связанной с деятельностью пользователя, и использование инструментов сетевой безопасности и наблюдения за пользователями с целью предотвращения нарушения авторских прав. Примечательно, что под давлением общественности даже Европейский парламент отказался от ратификации Соглашения АСТА. Данный пока несостоявшийся проект навязывания иностранной воли по повышению защиты интересов международного капитала за счет наступления на свободы граждан под эгидой «всемерного повышения защиты прав авторов» мог бы послужить наглядным уроком при формировании государственной правовой политики, ориентированной на национальные интересы России.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Павлова Е.А., Калягин В.О., Корнеев В.А. и др. Компенсация как мера ответственности за нарушение исключительных прав. Часть II // Журнал Суда по интеллектуальным правам, No 9, 2022.
2. Торговое соглашение по борьбе с контрафакцией. Комментарий. https://ru.wikipedia. org/wiki/Торговое_соглашение_по_борьбе_с_контрафакцией
3. Еременко В.И.. Вопросы ответственности за нарушение авторских и смежных прав в Российской Федерации, Журнал «Законодательство и экономика», No 8, 2011 год.
4. Иванов Н.В., Правовая природа компенсации за нарушение исключительного права, Журнал «Закон», No 9, 2024 год.
1 Регламент Совета ЕС No 2024/1739 от 24 июня 2024 года о внесении изменений в Регламент Совета ЕС No 269/2014; и Регламент Совета ЕС No 2024/1745 от 24 июня 2024 года о внесении изменений в Регламент Совета ЕС No 833/2014.
2 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (Заключено в рамках Уругвайского раунда многосторонних торговых пере- говоров, Марракеш, 15 апреля 1994 г.)
3 https://rospatent.gov.ru/ru/news/rospatent-08072024
4 https://kad.arbitr.ru/Card/b30e9453-9242-414b-af55-9aff4ae7a884
5 https://kad.arbitr.ru/Card/c3a73a27-dde7-4661-994b-52fea9d311fb