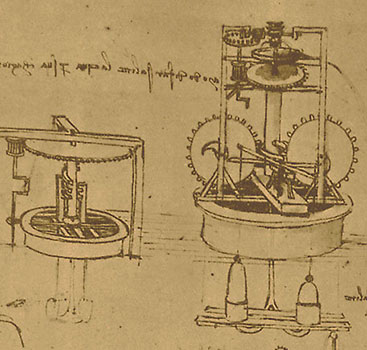А. В. Залесов, кандидат юридических наук, адвокат, патентный поверенный, старший партнер АБ «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры».
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, также именуемое интеллектуальным правом или интеллектуальной собственностью, дает его обладателю законную монополию в отношении охраняемого им объекта.
Абсолютный характер интеллектуального права обязывает любых третьих лиц воздерживаться от использования объекта охраны за рамками того, что прямо дозволено законом. Например, допускается использование запатентованного изобретения для научных исследований без согласия патентообладателя.
Защита монопольного права осуществляется установленным законом способом, в частности, правообладатель может выдвигать претензии третьим лицам по факту нарушения или угрозы нарушения и требовать прекращение нарушения права или прекращения создания реальной угрозы нарушения. С учетом того, что гражданское право выполняет правовосстановительную функцию, претензия как способ защиты права должна соответствовать допущенному нарушению. Это означает, что для восстановления права можно требовать от нарушителя прекращение не любых, а непосредственно совершаемых конкретных действий с охраняемым объектом (или действий по приготовлению, создающих угрозу нарушения). При включении в претензию требования о возмещении убытков или выплаты компенсации их запрашиваемый размер также должен с разумным допущением соответствовать упущенной выгоде правообладателя.
Выдвижение претензии в гражданско-правовом порядке, как и обращение с иском в суд или с заявлением в правоохранительные органы (административный или уголовно-правовой способ защиты) представляет собой определенное действие управомоченного лица и образует юридический факт, в результате которого возникают определенные последствия для вовлеченных в спор лиц. Поэтому претензия не может быть абстрактным предупреждением о наличии права, она должна являться реагированием на действия потенциального нарушителя в контексте существующего права и его объема. Претензия, направляемая правообладателем лицу, считаемому им нарушителем, должна рассматриваться как самозащита исключительного права, так в нее еще не вовлечен орган власти. Далее стороны вступают в правоотношение по поводу претензии. Например, адресат претензии может совершить вынужденное претензией действие - удовлетворить ее. Такая реакцией обычно бывает, когда получатель претензии сам оценивает свои действия как нарушение и считает необходимым подчиниться законному требованию хотя и добровольно, но под угрозой возможного обращения правообладателя к органу власти.
Также направление претензии может быть необходимым по закону в рамках досудебного производства по иску. Например, при требовании о взыскании убытков или компенсации за нарушение исключительного права ее направление является обязательным. В этом случае претензия играет двойную роль и самозащиты права, и необходимого процессуального действия.
Из юридической практики известно, что претензии о нарушении интеллектуальных прав не всегда являются законными и обоснованными. В рамках данной статьи рассмотрим вопросы выдвижения неправомерных претензий о нарушении исключительного права и связанные с этим проблемы. Направление неправомерных претензий о нарушении интеллектуальных прав встречается в современных реалиях довольно частно. Неправомерные претензии, а именно утверждения о нарушении права, когда в действительности такого нарушения не было, являются юридическими фактами, после которых могут наступать определенные последствия для лица, выдвинувшего такие обвинения, так и для адресата претензии. В частности, после получения претензии потенциальный ответчик считается безусловно уведомленным о наличии исключительного права и дальнейшие действия, ведущие к нарушению права ИС, будут иметь виновный характер. Но выдвижение неправомерных претензий часто является средством конкурентной борьбы, направленным на получение неправомерных (за рамками существующего права ИС) преимуществ на рынке. Такое поведение правообладателя по отношению к конкуренту является нарушением честных обычаев в промышленных и торговых делах, что согласно положениям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности является актом недобросовестной конкуренции. Необходимо четко отделять правомерную защиту права от неправомерных действий, а именно таких претензий (обвинений), которые явно выходят за рамки добросовестных мер.
В сфере уголовного права таким эффективным механизмом защиты от злоупотреблений посредством ложных обвинений является институт ответственности за заведомо ложный донос, который сам по себе преследуется как преступление. Лицо, подающее заявление о преступлении, предупреждается о возможной ответственности за заведомо ложный донос. Эта мера является серьёзным сдерживающим фактором от использование уголовного права в недобросовестных целях.
В рамках гражданского права защититься от злоупотреблений со стороны правообладателя гораздо сложнее ввиду ограниченности правовых средств. Универсальные положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, призванные защитить от злоупотребления правом, направлены на пассивную защиту (основание для отказа в иске правообладателю судом) и не очень хорошо приспособлены к сфере интеллектуальных прав. В России отсутствует институт иска о ненарушении права, что не позволяет проактивно (то есть инициативно, не дожидаясь обращения в суд самого правообладателя) защититься от обвинений в нарушении прав ИС за счет получения т.н. декларативного решения суда о ненарушении «declaratory judgement». Подробно проблему отсутствия в нашей такого механизма защиты интересов участников рынка анализировали многие исследователи1, но даже его введение в практику принципиально не изменит ситуацию отсутствия возможности привлечь к ответсвенности правообладателя за выдвижение необоснованных претензий, результатом которых стали убытки добросовестного участника оборота.
Отдельно можно отметить невозможность добиться от антимонопольных органов России пресечения деятельности патентообладателя по рассылки «предупреждений» о нарушении исключительных прав при реализации определенного товара конкурентом в адрес иных профессиональных участников рынка (например, потенциальных дистрибьютеров товара конкурента)2, тогда как в действительности нарушения прав не происходит и в дальнейшем правообладателю в судебном порядке отказано в защити исключительного права ввиду отсутствия нарушения. Как указывают органы ФАС в решениях об отказе в возбуждении дела о недобросовестной конкуренции путем сообщения ложных сведений о нарушении патентных прав в конкретном продукте, что поддержано в последующих судебных актах по делу: «.. факт искаженного толкования … объема применения исключительных прав, определяемых патентом … , не только не несет сам по себе фактических последствий для заявителя, в связи с тем, что не может быть оценен как препятствие доступу на товарный рынок, но и в полной мере подпадает под ограничение применения нормы, установленное пунктом 4 статьи 10 Закона о защите конкуренции.»
С учетом описанных выше правовых реалий можно констатировать, что современное отечественное право содержит очень ограниченный набор правовых средств, которые потенциально можно использовать для пресечения таких недобросовестных действий правообладателей. При этом даже те редкие механизмы, которые предусмотрены в законе оказываются малоэффективными. Поэтому правоприменительная практика в нашей стране по пресечению подобной неправомерной активности правообладателей ИС фактически отсутствует. То есть действенное привлечение к ответственности правообладателя за нанесение ущерба конкуренту путем выдвижения необоснованных обвинений за нарушение прав ИС, в частности взыскание понесенных убытков, в нашей стране на сегодня невозможно. В этой связи особенно ценными и интересными представляются подходы к решению вопроса о неправомерных обвинениях в нарушении прав ИС из зарубежной практики.
При оценке неправомерности (необоснованности в широком смысле) претензий правообладателей ИС следует понимать, что они могут быть объективно ошибочными либо субъективно ошибочными. В данном случае под субъективным фактором мы не имеем в виду субъективную сторону правонарушения, включающую вину и мотив нарушителя. Понятно, что направление неправомерной претензии как правонарушение всегда характеризуется определенной субъективной стороной данного деяния. Например, деяние может быть совершено в результате непреднамеренной ошибки правообладателя в оценке обстоятельств дела или нормы закона, или это может быть попыткой целенаправленного обмана адресата.
Помимо вопроса вины субъекта в сфере ИС существует еще одно деление на объективную/субъективную составляющие. Дело в том, что сам объект правовой охраны в сфере ИС (его границы) могут быть определены с известной степенью субъективизма (экспертного усмотрения) ввиду его нематериального характера. Поэтому под субъективным фактором, от которого нельзя полностью избавиться, мы понимаем субъективное усмотрение в оценке объекта права ИС (объема правовой охраны).
С учетом сделанной оговорки объективно неправомерными вне зависимости от интеллектуальной и волевой направленности действий правообладателя ИС можно считать претензии, выходящие за рамки законного требования. Традиционно констатируется, что писанное гражданское право существует объективно, поэтому факты нарушения закона, когда неверная оценка существа правовой нормы или ее игнорирование каким-то лицом (юридическая ошибка) приводят к правонарушению могут быть объективно оценены в таком качестве судом. То есть считается, что в данном случае нарушение произошло объективно, хотя оно и зависело в известной степени от субъективной интеллектуальной деятельности нарушителя. Важно, что для проверки законности претензии тут не требуется ничего кроме корректного суждения о праве. Таким образом, претензии правообладателя могут быть объективно неправомерными ввиду неверной квалификации им действий контрагента как нарушения его права или некорректного требования к подозреваемому нарушителю. В этом случае правообладатель прямо выходит за рамки права в объективном смысле. При этом причина ошибки правообладателя в оценке действий адресата претензии, а также направленность его воли (случайная ошибка или намеренный обман) просто не учитываются, поскольку в данном случае факт выхода претензии за рамки закона может быть объективно установлен. Иными словами объективная неправомерность претензии состоит в том, что закон такие действия в отношении конкретного объекта ИС не запрещает, а правообладатель пытается их запретить.
Так объективно неправомерной будет претензия, когда в качестве нарушения называется допустимое законом действие с объектом ИС (например, клинические испытания в отношении аналога запатентованного лекарственного препарата), или когда претензия адресует требование к лицу, не являющемуся нарушителем (например, покупатель, а не продавец запатентованной продукции).
Вернувшись к субъективному фактору отметим, что данный фактор играет в определении объекта ИС (объема правовой охраны) существенно большую роль, чем в иных отраслях, например, в вещном праве. При этом даже в вещном праве возможны субъективные заблуждения о предмете, которые влияют на факт нарушения или его отсутсвие. Неверно установленные кадастровым инженером и внесенные в реестр объектов недвижимости границы земельного участка (погрешность измерений) явно повлияют на спор об установленном заборе между участками.
Но в сфере ИС значение субъективного фактора в установлении границ объекта охраны несравнимо выше ввиду его нематериального характера. Ввиду того, что результат интеллектуальной деятельности (например, техническое решение) - это объект идеального мира, его формализация при описании словами (например, в формуле изобретения) всегда происходит «с погрешностью».
То есть границы объекта ИС (объем правовой охраны) далеко не всегда могут быть объективно и точно определены. Существует неопределенность в установлении границ объекта, которые в силу закона определяются с известной долей субъективной (экспертной) оценки. Например, нарушением исключительного права на товарный знак будет являться использование не только тождественного, но и сходного до степени смешения с товарным знаком обозначения, а также в отношении не только указанных в свидетельстве, но и однородных товаров. При всех попытках в рамках правил и методических рекомендаций минимизировать субъективную составляющую оценки сходства обозначений и однородности товаров - полностью от субъективизма здесь избавиться не удается. Еще более «свобода экспертного усмотрения» имеет место при определении объема патентной охраны изобретения. Нарушением исключительного права на изобретение будет использование в спорном продукте или способе не только каждого признака независимого пункта формулы изобретения, но и эквивалентных признаков. Определение эквивалентности признаков - это сугубо экспертная оценка, пока еще не слишком четко установленная в рамках доктрины эквивалентов. То есть «факт» подпадания конкретного продукта или способа под объем патентной охраны (формулы с учетом описания) - это в действительности всегда субъективное экспертное суждение, а не объективный факт. Поэтому возможно субъективное заблуждение в отношении существа объема охраны (границ объекта) исключительного патентного права. В этой связи неправомерные претензии о нарушении патентного права, направленные на объект, не подпадающий под патент - часто представляют собой субъективную ошибку, а не объективный выход за границы права. Это можно считать субъективным фактором, влияющим на обоснованность претензии.
Обычно недобросовестная практика направления неправомерных претензий о нарушении ИС осуществляется правообладателем с целью получения конкурентных преимуществ при затрате минимальных усилий. Часто претензии направляется дистрибьютерам, а не производителю конкурирующей продукции. В претензиях указывается не только о гражданско-правовой, но и о возможной уголовной ответственности за нарушение патентных прав по статье 147 или прав на товарный знак по статье 180 Уголовного кодекса РФ. Дистрибьютеру зачастую проще «переключиться» на иной товар, чем нести юридические риски которые ему трудно оценить, что приводит к вытеснению продукта, который не подпадает под патент, либо на котором нанесено обозначение в действительности не сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. При этом часто правообладатель активно рассылает претензии, но не стремиться обратиться в суд в случае неисполнения претензии, понимая безосновательность или сомнительность своих претензий. Это является косвенным признаком необоснованной претензии.
В случае, если правообладатель рассылает письма-претензии с указанием на факт нарушения исключительного права при реализации какого-то конкретного товара, но при этом не обращается в суд с исковым заявлением в установленном порядке, то он де факто таким образом обеспечивает свою монополию на данном рынке, так как дистрибьюторы зачастую прекращают закупку спорного товара во избежание возможных правовых рисков. Если претензия неправомерна, и в действительности утверждаемого в ней нарушения права не было, то в настоящее время в России производитель спорной продукции может защитит свои интересы двумя способами:
- Подача иска в арбитражный суд к направившему претензию правообладателю о защите деловой репутации от распространения ложных сведений о продукции на основании положений статьи 152 Гражданского кодекса РФ;
- Обращение в органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с заявлением или в суд с исковым заявлением о пресечении недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя, выразившейся в распространения ложных сведений о товаре конкурента на основании положений статьи 14.1 федерального закона «О защите конкуренции», согласно которым не допускается недобросовестная конкуренция путем дискредитации, то есть распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации.
Каждое из вышеуказанных средств защиты основано на определенной правоприменительной практике органов ФАС и арбитражных судов, но ее пока недостаточно для того чтобы выработать рекомендации по формированию позиции и необходимых средств доказывания. Нарушением является распространение ответчиком только недостоверных сведений (о факте нарушения патента) в действиях истца по иску о защите деловой репутации и/или пресечении недобросовестной конкуренции. Положительным моментом является то, что бремя доказывания фактической достоверности распространяемых сведений о факте нарушения патента лежит на патентообладателе - ответчике, а истец обязан доказать лишь факт распространения сведений (например, представив письмо, направленное дистрибьютерам и переданное ему ими), а также их порочащий его репутацию характер.
Помимо данных двух «проактивных» способов защиты от неправомерных обвинений в нарушении прав ИС, конечно, остается возможность ссылки на злоупотребление правом согласно положениям статьи 10 Гражданского кодекса РФ при защите от иска правообладателя. В настоящее время арбитражная судебная практика по данной категории дел в сфере ИС также очень ограничена, поэтому вряд ли возможно определение каких-либо общих подходов.
В этой связи очень полезной является возможность рассмотреть обобщенный зарубежный опыт, который представлен в резолюции: «Неправомерные обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности», принятой на Всемирном конгрессе Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI), проходившем с 17 по 21 октября 2024 года в городе Ханчжоу (КНР). Далее приведем текст резолюции в несколько сокращённом виде.
В качестве преамбулы в резолюции указано, что:
- Настоящая резолюция касается неправомерных обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности, в частности (а) вида деятельности, которые представляют собой неправомерные обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности, и (б) последствий выдвижения таких неправомерных обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности.
- В настоящей резолюции «неправомерные обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности» относятся к обвинениям в нарушении, которые выходят за рамки законного осуществления права владельца прав интеллектуальной собственности.
- Учитывая трансграничный характер нарушения прав интеллектуальной собственности и трансграничный охват обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности, желательно наличие гармонизированной структуры по вопросам неправомерных обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности. Такая структура принесет пользу как владельцам прав ИС, так и сторонам, которые подвергаются обвинениям в нарушении прав ИС, обеспечивая последовательность, определенность и предсказуемость при оценке законности таких обвинений.
- В настоящей Резолюции не рассматривается взаимодействие антимонопольного законодательства с обвинениями в нарушении прав ИС и вопрос о том, может ли осуществление права ИС быть запрещено из-за его антиконкурентного осуществления. В настоящей Резолюции также не рассматриваются вопросы, связанные с общей добросовестной деловой практикой, маркетинговым правом, обязательным лицензированием и злоупотреблением самой системой регистрации прав ИС (например, недобросовестное патентование неохраноспособных полезных моделей и злоупотребление регистрациями товарных знаков, а также повторяющиеся выделенные патентные заявки).
AIPPI постановляет, что:
- Законы о неправомерных обвинениях в нарушении прав интеллектуальной собственности должны быть гармонизированы, чтобы обеспечить четкую и последовательную основу для действий соответствующих сторон во всех юрисдикциях;
- Определение того, является ли обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности неправомерным, должно быть основано на факточувствительном подходе, который оценивает сочетание объективных и субъективных критериев. Факторы, которые следует принимать во внимание, включают, без ограничений:
- a. было ли обвинение сделано на разумной основе (т. е. что разумный человек в положении стороны, выдвигающей обвинение, мог бы прийти к убеждению, что имело место нарушение);
- b. мотивация стороны, выдвинувшей обвинение, в частности, было ли обвинение сделано со злым умыслом или недобросовестно; и
- c. осведомленность стороны, которая сделала заявление, в частности, знала ли указанная сторона о (i) обстоятельствах, опровергающих действительность, или (ii) обстоятельствах, ведущих к установления факта ненарушения.
- Сам по себе факт того, что заявление о нарушении прав интеллектуальной собственности впоследствии оказывается ошибочным, либо из-за последующего установления недействительности права, либо из-за установления факта ненарушения права, не является само по себе убедительным основанием для вывода о том, что данное заявление было неправомерным.
Однако, по крайней мере, следующие заявления следует считать неправомерными заявлениями о нарушении прав интеллектуальной собственности:
- a. Заявление о нарушении прав интеллектуальной собственности при наличии фактических знаний об обстоятельствах, опровергающих действительность права;
- b. Заявление о нарушении прав интеллектуальной собственности при наличии фактических знаний об обстоятельствах, ведущих к установления факта ненарушения;
- c. Заявление о нарушении прав интеллектуальной собственности, когда право интеллектуальной собственности фактически не существует; и
- d. Заявление о нарушении прав интеллектуальной собственности с целью получения судебного запрета на предполагаемое дальнейшее нарушение, когда срок действия упомянутого права интеллектуальной собственности истек.
- Сам по себе факт того, что обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности впоследствии доказано (например, решением по существу), не является окончательной гарантией вывода о том, что обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности не являлось неправомерным.
- Следующие обстоятельства не должны категорически приводить к выводу о том, что обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности является неправомерным:
- a. Выдвижение обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности, когда сторона, выдвигающая обвинение, знала или должна была знать, что претензия о нарушении имела низкую вероятность успеха;
- b. Выдвижение обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности до предоставления права интеллектуальной собственности при условии, что такие сообщения не утверждают, что право интеллектуальной собственности предоставлено; и
- c. Выдвижение обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности, когда продолжаются переговоры об урегулировании или другие процессы разрешения споров.
- Любое сообщение, которое может быть разумно понято лицом, против которого выдвинуто обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности, как угроза судебного разбирательства по делу о нарушении, независимо от того, является ли это явной или подразумеваемой угрозой, может представлять собой неправомерное обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности. Однако простое уведомление о существовании права интеллектуальной собственности не должно рассматриваться как угроза судебного разбирательства о нарушении права.
- Национальные или региональные законы должны стремиться обеспечить большую ясность в отношении того, что является или не является угрозой судебного разбирательства о нарушении прав интеллектуальной собственности, чтобы позволить сторонам общаться без опасения понести потенциальную ответственность за неправомерные обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности.
- Любая сторона, независимо от того, является ли она фактическим владельцем права интеллектуальной собственности или любой другой стороной (например, неисключительным лицензиатом, исключительным лицензиатом, компанией одной группы с правообладателем и/или другой третьей стороной), которая выдвигает обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности, несет ответственность, если обвинение будет признано неправомерным. Адвокаты, юристы и другие специалисты по интеллектуальной собственности или юридические советники, действующие в своих профессиональных полномочиях и в соответствии с применимыми профессиональными правилами поведения от имени своих клиентов, не несут личной ответственности за выдвижение неправомерных обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности.
- Иск о возмещении ущерба в отношении неправомерных обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности может быть подан стороной, которой было предъявлено обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности, и/или любой другой стороной, интересы которой были или могут быть затронуты обвинением.
- Если обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности было признано неправомерным, в отношении стороны, выдвинувшей неправомерное обвинение, должно быть доступно одно или несколько из следующих средств правовой защиты, если применимо:
- a. Деклараторное решение (declaratory judgement) о том, что обвинение в нарушении прав интеллектуальной собственности является необоснованным;
- b. Судебный запрет;
- c. Возмещение убытков;
- d. Штраф;
- e. Штрафные убытки;
- f. Публикация решения;
- g. Публикация исправления;
- h. Удаление обвинения; и/или
- i. Возмещение судебных и юридических издержек.
- Бремя доказывания в случаях неправомерных обвинений в нарушении прав интеллектуальной собственности лежит на стороне, которая утверждает, что обвинение является неправомерным.
При учете подходов данной резолюции следует учитывать, что она принималась большинством голосов специалистов в области интеллектуальной собственности из стран с различным уровнем развития национальных правовых и экономических систем. Резолюцию следует оценивать как «средневзвешенную» позицию правоведов из разных стран по поставленному вопросу.
1 Михайлов А. В., Сергунина Т.В., «Иск о ненарушении исключительных прав для устранения неясности границ исключительных прав патентообладателя и исключения злоупотребления правом» "Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 13, сентябрь 2016 г., с. 38-76
2 Смотри, например, Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу No А40-73651/2014
Список литературы:
1.https://aippi.soutron.net/Portal/Default/en-GB/RecordView/Index/6125
2.Михайлов А. В., Сергунина Т.В., «Иск о ненарушении исключительных прав для устранения неясности границ исключительных прав патентообладателя и исключения злоупотребления правом», Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 13, 2016, с. 38-76;
3. Ворожевич А.С. «Иски о ненарушении исключительных прав на изобретения как эффективный способ защиты прав фармацевтических компаний», Хозяйство и право, № 4б 2020, с. 32-46;
4. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу No А40-73651/201